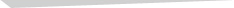Опубликовано: 2011.07.14
Евгения Бильченко
Страх быть собой
А после, прячась в уборной от санитаров,
я глядел на себя в зеркало и удивлялся,
что кому-то удается такое неслыханное дело – быть собой.
Кен Кизи. «Полет над гнездом кукушки»
Право быть собой
Виктор Малахов
Ежедневно, ежечасно, ежесекундно человеческим существом руководит страх. Независимо от того, осознаваем ли этот страх, фиксируем ли он в чувстве боязни, тревоги, откровенной трусости или спасительно благоразумной «осторожности», на свете нет человека, который бы не испытывал этого перманентно ноющего чувства. Страх превращается в экзистенцию человеческого бытия, в конденсированный сгусток его качеств.
Ребенок боится, когда кричат. Послеоперационный боится сделать первый шаг на больничном полу и сидит, беспомощно свешивая ноги с койки. Подросток, не уступивший место в автобусе, боится упреков старушки, и его вызывающая улыбка еще больше обнажает его страх. Старушка, подходящая к подростку за местом, боится этой ухмылки, и ее разъяренность еще больше обнажает ее страх. Солдат боится атаки, даже если он падает грудью на пулемет. Знаменитое казацкое оголение торса в бою – бравурная истерическая атака на сам страх. Дзеновское харакири – квинтэссенция эстетизированного и ритулизированного преодоления страха. Страх сопоставим с идеальной по своему совершенству полоской восходящего солнца, которым любуется самурай в момент осуществления сиппоку. Она столь же прекрасна, сколь и мучительна. Повсеместность страха позволяет утверждать, что и философия – этот великий «план над хаосом», как сказали Жиль Делёз и Феликс Гватарри, – начинается не только с буддийского страдания, или с платоновского удивления, или с картезианского скепсиса, или с гуссерлианской «заинтересованности», или со швейцеровского «благоговения перед жизнью». Философия во многом начинается со страха. Будучи философогенным фактором, страх предстает как рациональный механизм психологической защиты, главной маскарадной маской которого является умозрение – такая же игра с бытием, как и искусство. Будучи универсально-понятийным способом познания действительности через ее первоосновы, философия предстает как способ маскировки и/или удовлетворения наиболее фундаментальной формы человеческого страха – страха перед смертью.
Страх смерти, страх перед ее приходом, есть основа всех остальных форм страха. Человек страдает, поскольку видит перед собой ницшеанскую бездну – привлекательную и одновременно ужасную тайну, смотрящую на него с интенсивностью, прямо пропорциональной внимательности его собственного взгляда, более того, наращивающую эту ответную внимательность в темпах, выходящих из-под человеческого контроля. Эффект лавины, сопровождающий страх, порождает панику, и тогда страх приобретает способность множить себя до бесконечности, расширяя и углубляя цепочки ассоциаций. Даже религиозная вера – наиболее совершенная форма заслона от бытийного страха – не устраняет его полностью, или, как говорил Сергей Борисович Крымский, человек, даже стоя лицом к Богу, ощущает за спиной холод небытия.
Главная заслуга религии как средства преодоления страха состоит вовсе не в производстве малодушно утешительных эскапических средств отвлечения от него. Функцию формирования психологии раба, покорного и безропотного послушника авторитетных мифов, берет на себя вовсе не религия, как это утверждали материалисты. Современное китчевое искусство и информационные технологии с успехом справляются с этой задачей, подсовывая боящемуся глянцевые суррогаты религиозных наративов. Религия, в особенности же христианская религия как религия любви и личности, выполняет иное задание: она преобразует страх перед смертью в «страх Божий», который есть страхом в себе, но не за себя. Пребывая в «страхе Божием», человек испытывает не профанную боязнь, а сакральный трепет – тревогу не за собственную жизнь, а за собственную совесть. Голос совести выражает себя через любовь к Ближнему, через ощущение вины перед ним, через заботу и тревогу о нем, через страх перед его, ближнего смертью и подверженностью смерти, перед его уязвимостью, или, как сказал бы Эманюэль Левинас, «нагостью» (вспомните, у Бродского: «Каждый пред Богом наг»). Смерть как источник страха в данный момент служит способом его одухотворения: через концепт смерти, данный в опыте, человек осознает смерть Ближнего как свою собственную и обучается состраданию. Так эмпирическая смерть в духовном отношении становится Истиной. Возможно, величайший подвиг христианской религии в ценностном отношении, состоит именно в этом моменте – чудесном моменте перехода от Чудовища к Чуду, от боязни – к трепету, от страха за себя – к страху за Ближнего, а значит, к совести, истине и к Богу. Совесть же, Истина и Бог, божественная истина, преломленная через внутреннее софийное пространство совести – есть Самость. Христианство как персоналистическая религия формирует в человеке одно из главных его качеств – мужество быть собой. эта трансформация страха из боязни смерти в трепет перед Истиной есть не что иное, как переход от чувства стыда к чувству вины, от переживанию внешнего поступка и внешнего наказания – к переживанию внутренней интенции духа и внутренней же кары, которая не лишает жизни, но убивает страшнее смерти. Недаром Пьер Абеляр говорил о намерении как критерии греха, а Митя Карамазов у Федора Достоевского готов нести наказание за убийство отца, которого не совершал, но желал совершить.
Итак, через анализ понятия страха и, в частности, страха перед смертью, мы пришли к одному из самых важных философско-антропологических понятий – понятия самости. Самость – внутренняя целостность и самотождественность личности, выраженная в ее способности хранить верность себе. Причем, эта преданность, за которой нетрудно уловить нотки эгоцентризма, касается таких констант человеческого бытия, которые превосходят даже убеждения. Последние могут меняться, и подобная смена мировоззренческих ориентиров, не является предательством себя. Взгляды, принципы, приоритеты – категории латентные, зависящие от жизненного опыта и исторического контекста. Самость лелеет преданность по отношению к понятиям более стойким, предельным, которые находятся по ту сторону убеждений и представляют собой духовную реальность, ощущаемую как голос Бога в себе. Подобное понимание самости, конечно, спорно: ого значительно релятивизирует религиозно-моральные устои, но, однако же, позволяет человек свободно самоопределяться относительно них, наполнять свои религиозные убеждения живым духовным содержанием. Безусловно, самость, рожденная в результате преодоления страха, апеллирует к понятиям свободы, а где есть свобода, там есть грех. Выступая тотальной негацией, страх освобождает человека от повседневности, вытаскивает его из социальных личин и бросает в царство абсолютной свободы, побуждающей человека быть собой, принять ответственность за собственное Я. Выбор самости вопреки небытию чреват опасностью выбора своего Я против Бога, то есть – анархизмом гордыни. Но возможен и другой исход. Наличие страха и свободы как его последствия предполагает иной выбор – восхождение на путь Откровения и духовного освобождения от обоих миров – и мира тотальной негативности, и мира обыденной социальности.
Итак, религия преодолевает в человеке страх смерти и его производную – страх самости, страх быть собой. Возникает вопрос: что же является причиной этого страха, что в представлении человека выступает носителем смерти, опасности наказания, следующего за свободным выражением своей воли и принципов? В одном случае причиной является политический диктатор, в другом – мелкий чиновник, в третьем – мнение толпы, в четвертом – осуждение родителей или коллектива, в пятом – потеря денег, в шестом – поруганная репутация, в седьмом – однночество. Но страх одиночества, как и страх перед уличным грабителем, – феноменологически разные, но сущностно одинаковые формы тревоги человека перед чем-то неизведанным, неожиданно нападающим или предугадано проникающим в его существо. И этим «чем-то» (вспомните фольклорное: «Иди туда, не знаю куда») является Чужой. Таким образом, мы пришли к еще одному важному понятию нашего размышления понятию Чужого. Чужой – это не мифологическая фигура, не религиозный сюжет, не философский концепт и не конкретное лицо или событие. Будучи одухотворенной инстанцией обращения, Чужой интегрирует все вышеупомянутые ипостаси в единый сгусток феномена инаковости как таковой. И самое сущностное в этой инаковости состоит в том ,что Чужой – это по природе своей Чужой в нас самих. Чужой – имманентен и трансцендентен одновременно. Он является реальным живым существом, пространством окружающей действительности, соседом-чудаком или иноземцем-монстром, исламским фундаменталистом или «проклятым католиком», «донецким бандитом» или «львовским бандеровцем», но одновременно он – наши негативные знания о самих себе, вытесненные в подсознания и путем проекции перенесенные на внешний хаос. Так Свое порождает Чужого. Более того: свое в какой-то момент само становится Чужим. В страхе перед чужестью индивид, ища себе подобных, образует группу или систему «свойскости» (семью, клан, род, племя, нацию, религиозную общину, церковь, государство, «человечество»). Группа эта, временно избавляя от страха, – страха смерти, страха Чужого и страха самости – одаривает человек роскошью солидарности, но эта солидарность, массовость, клановость, в какой-то момент деградирует в тотальность. А всякая тотальность стандартизирует и отчуждает человека от самого себя, приучая и/или принуждая мыслить стереотипами. И тогда порождается грандиозная унифицирующая сила – Система, – сама становящаяся Чужим, против которого протестует личность, отстаивая право быть собой. Здесь кроется момент расхождения между религией как формой личностного духовного опыта и церковью как социальной структурой – момент начала любых ересей и мистико-аскетических движений в культуре – от даосских отшельников до лютеранства и суфизма – движений, зачастую болезненных, греховных с точки зрения ортодоксов, но зачастую и нравственно оправданных в качестве способов спасения самости как совести. Впрочем, подобная борьба – борьба против самоотчуждения и борьба с Чужим в себе и вне себя не менее (если не более) болезненно переживается на уровне повседневности.
Первое впечатление от Чужого, которое наблюдает у себя человек – это то, что Чужой является ему в опыте, вызывает острую боязнь, смешанную со скрытым любопытством и, заигрывая со мной своей странностью, пытается отнять у меня мою самость. Первичная эмпирическая агрессия Чужого, даже если он ничего обидного и не предпринимает, вызывает обостренное самолюбием желание оправдаться перед его лицом, пройти инициацию в его царстве и, таким образом, самоутвердиться, спасти свою самость. Так, подросток, попадая в незнакомую удалую компанию, испытывает смешанное чувство робости и задирства. Ерничество, бравада есть ироничная маска беззащитности перед Чужим и одновременно начало его преодоления, ибо через шутку человек одомашнивает пространство вокруг себя. С этой точки зрения наиболее показательной является ирония художника по отношению к критику – первый признак трагедии творчества романтика-одиночки.
Итак, смех, юмор, комическое, ирония – характерные признаки встречи с Чужим и сублимационные формы страха перед ним. Ортодоксальное теологическое сознание зачастую подозрительно относится к смеху как средству нравственного разъедания сакральных истин, как к началу релятивации всего и вся. Соглашаясь с этим утверждением относительно нигилистического постмодерного смеха, тем не менее, отметим: смех как таковой не профанизирует действительность. Смех есть жест свободы, жест протеста самости против серьезности системы, и как жест свободы смех (например, карнавальный смех) является способом защиты самости, то есть движением к самому священному внутри человека. Изымая личность из социальной личины, смех спасает ее Лицо. На этом строится семантика розыгрыша как взаимной инверсии серьезного и комического: когда из невинной шутки, по воле тоталитарного запугивания системы, произрастает серьезность (вспомним неудачно пошутившего на тему троцкизма студента-коммуниста из романа «Шутка» Милана Кундеры); или наоборот серьезное эпатируется до шутки. Ярким примером последнего является изысканный «стеб», с которым интеллектуал саботирует посредственность. Примеров тому – великое множество, и не только в постмодернизме. Вспомним рыжего бандита Макмерфи, валяющего дурака перед персоналом бездушного Комбината психиатрической больницы в романе Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», блестяще экранизированного в одноименной драме Милоша Формана. Вспомним «шуточный» бунт против царизма маленького человека – актера Афанасия Бубенцова из провинциального театра в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Вспомним многочисленные розыгрыши Сергея Борисовича Крымского, о которых с удовольствие вспоминают его коллеги по Институту философии. Любое первое апреля скрывает в себе трагическое начало времен.
Как признак трагедии творчества смех есть первый шаг навстречу Чужому, потому что через иронизирование человек начинает дифференциацию самого чужого как открытого ему навстречу существа и чужести как неприглядных нравственных качеств этого существа. Любить человека, но ненавидеть его грехи, осуждать не человечность, а социальность – золотая максима практически всех религий, особенно христианской. Так через смех начинается отделение зерна от плевел, различение истинного и ложного, отшелушивание недостатков человек при сохранении эмпатии к нему как к человеку – уже не Чужому, а Другому и даже Ближнему. Александр Мень мечтал написать этюд о юморе Христа… Александр Блок, призывал читателей не слышать «их смеха, а слышать ту боль, что стоит за ним». Об одном из своих героев Борис Пастернак писал, что его никогда не облагораживало чувство беззаботности – не в понимании гедонистического легкомыслия по отношению к высшим ценностям, а в понимании отказа от отягощенности бременем заземленных социальных тягот, соблазнов и суетности.
В качестве выводов отметим следующие тезисы. Основой бытия человека в мире является страх. Фундаментальной формой страха является страх смерти. Источником страха смерти и ее носителем предстает Чужой. Угроза Чужого, его присутствие рядом со мной, во мне и через меня, принимающее формы системы, порождает еще один ключевой экзистенциальный страх – страх самости, страх быть собой, страх свободы, страх самовыражения. Страх как начало тоталитаризма во всех его формах. Одним из способов одоления этого страха является смех. Целомудренный трагический смех, который приводит человека к самости.
Религия, также апеллируя к самости и к совести, преобразует страх, переводя его из внешней формы во внутреннюю: превращая боязнь в трепет, а стыд – в муки совести и вины. Таким образом, религия выполнят ту же функцию, что и целомудренный смех. Поэтому смех внутренне религиозен, а религия несет в себе добрую, а подчас и грустно-ироническую улыбку, подобную беззаботности Божией птички, не знающей ни забот, ни труда.
Поскольку главный труд, осуществляемый человеческим существом – это мужество быть собой.
Ребенок боится, когда кричат. Послеоперационный боится сделать первый шаг на больничном полу и сидит, беспомощно свешивая ноги с койки. Подросток, не уступивший место в автобусе, боится упреков старушки, и его вызывающая улыбка еще больше обнажает его страх. Старушка, подходящая к подростку за местом, боится этой ухмылки, и ее разъяренность еще больше обнажает ее страх. Солдат боится атаки, даже если он падает грудью на пулемет. Знаменитое казацкое оголение торса в бою – бравурная истерическая атака на сам страх. Дзеновское харакири – квинтэссенция эстетизированного и ритулизированного преодоления страха. Страх сопоставим с идеальной по своему совершенству полоской восходящего солнца, которым любуется самурай в момент осуществления сиппоку. Она столь же прекрасна, сколь и мучительна. Повсеместность страха позволяет утверждать, что и философия – этот великий «план над хаосом», как сказали Жиль Делёз и Феликс Гватарри, – начинается не только с буддийского страдания, или с платоновского удивления, или с картезианского скепсиса, или с гуссерлианской «заинтересованности», или со швейцеровского «благоговения перед жизнью». Философия во многом начинается со страха. Будучи философогенным фактором, страх предстает как рациональный механизм психологической защиты, главной маскарадной маской которого является умозрение – такая же игра с бытием, как и искусство. Будучи универсально-понятийным способом познания действительности через ее первоосновы, философия предстает как способ маскировки и/или удовлетворения наиболее фундаментальной формы человеческого страха – страха перед смертью.
Страх смерти, страх перед ее приходом, есть основа всех остальных форм страха. Человек страдает, поскольку видит перед собой ницшеанскую бездну – привлекательную и одновременно ужасную тайну, смотрящую на него с интенсивностью, прямо пропорциональной внимательности его собственного взгляда, более того, наращивающую эту ответную внимательность в темпах, выходящих из-под человеческого контроля. Эффект лавины, сопровождающий страх, порождает панику, и тогда страх приобретает способность множить себя до бесконечности, расширяя и углубляя цепочки ассоциаций. Даже религиозная вера – наиболее совершенная форма заслона от бытийного страха – не устраняет его полностью, или, как говорил Сергей Борисович Крымский, человек, даже стоя лицом к Богу, ощущает за спиной холод небытия.
Главная заслуга религии как средства преодоления страха состоит вовсе не в производстве малодушно утешительных эскапических средств отвлечения от него. Функцию формирования психологии раба, покорного и безропотного послушника авторитетных мифов, берет на себя вовсе не религия, как это утверждали материалисты. Современное китчевое искусство и информационные технологии с успехом справляются с этой задачей, подсовывая боящемуся глянцевые суррогаты религиозных наративов. Религия, в особенности же христианская религия как религия любви и личности, выполняет иное задание: она преобразует страх перед смертью в «страх Божий», который есть страхом в себе, но не за себя. Пребывая в «страхе Божием», человек испытывает не профанную боязнь, а сакральный трепет – тревогу не за собственную жизнь, а за собственную совесть. Голос совести выражает себя через любовь к Ближнему, через ощущение вины перед ним, через заботу и тревогу о нем, через страх перед его, ближнего смертью и подверженностью смерти, перед его уязвимостью, или, как сказал бы Эманюэль Левинас, «нагостью» (вспомните, у Бродского: «Каждый пред Богом наг»). Смерть как источник страха в данный момент служит способом его одухотворения: через концепт смерти, данный в опыте, человек осознает смерть Ближнего как свою собственную и обучается состраданию. Так эмпирическая смерть в духовном отношении становится Истиной. Возможно, величайший подвиг христианской религии в ценностном отношении, состоит именно в этом моменте – чудесном моменте перехода от Чудовища к Чуду, от боязни – к трепету, от страха за себя – к страху за Ближнего, а значит, к совести, истине и к Богу. Совесть же, Истина и Бог, божественная истина, преломленная через внутреннее софийное пространство совести – есть Самость. Христианство как персоналистическая религия формирует в человеке одно из главных его качеств – мужество быть собой. эта трансформация страха из боязни смерти в трепет перед Истиной есть не что иное, как переход от чувства стыда к чувству вины, от переживанию внешнего поступка и внешнего наказания – к переживанию внутренней интенции духа и внутренней же кары, которая не лишает жизни, но убивает страшнее смерти. Недаром Пьер Абеляр говорил о намерении как критерии греха, а Митя Карамазов у Федора Достоевского готов нести наказание за убийство отца, которого не совершал, но желал совершить.
Итак, через анализ понятия страха и, в частности, страха перед смертью, мы пришли к одному из самых важных философско-антропологических понятий – понятия самости. Самость – внутренняя целостность и самотождественность личности, выраженная в ее способности хранить верность себе. Причем, эта преданность, за которой нетрудно уловить нотки эгоцентризма, касается таких констант человеческого бытия, которые превосходят даже убеждения. Последние могут меняться, и подобная смена мировоззренческих ориентиров, не является предательством себя. Взгляды, принципы, приоритеты – категории латентные, зависящие от жизненного опыта и исторического контекста. Самость лелеет преданность по отношению к понятиям более стойким, предельным, которые находятся по ту сторону убеждений и представляют собой духовную реальность, ощущаемую как голос Бога в себе. Подобное понимание самости, конечно, спорно: ого значительно релятивизирует религиозно-моральные устои, но, однако же, позволяет человек свободно самоопределяться относительно них, наполнять свои религиозные убеждения живым духовным содержанием. Безусловно, самость, рожденная в результате преодоления страха, апеллирует к понятиям свободы, а где есть свобода, там есть грех. Выступая тотальной негацией, страх освобождает человека от повседневности, вытаскивает его из социальных личин и бросает в царство абсолютной свободы, побуждающей человека быть собой, принять ответственность за собственное Я. Выбор самости вопреки небытию чреват опасностью выбора своего Я против Бога, то есть – анархизмом гордыни. Но возможен и другой исход. Наличие страха и свободы как его последствия предполагает иной выбор – восхождение на путь Откровения и духовного освобождения от обоих миров – и мира тотальной негативности, и мира обыденной социальности.
Итак, религия преодолевает в человеке страх смерти и его производную – страх самости, страх быть собой. Возникает вопрос: что же является причиной этого страха, что в представлении человека выступает носителем смерти, опасности наказания, следующего за свободным выражением своей воли и принципов? В одном случае причиной является политический диктатор, в другом – мелкий чиновник, в третьем – мнение толпы, в четвертом – осуждение родителей или коллектива, в пятом – потеря денег, в шестом – поруганная репутация, в седьмом – однночество. Но страх одиночества, как и страх перед уличным грабителем, – феноменологически разные, но сущностно одинаковые формы тревоги человека перед чем-то неизведанным, неожиданно нападающим или предугадано проникающим в его существо. И этим «чем-то» (вспомните фольклорное: «Иди туда, не знаю куда») является Чужой. Таким образом, мы пришли к еще одному важному понятию нашего размышления понятию Чужого. Чужой – это не мифологическая фигура, не религиозный сюжет, не философский концепт и не конкретное лицо или событие. Будучи одухотворенной инстанцией обращения, Чужой интегрирует все вышеупомянутые ипостаси в единый сгусток феномена инаковости как таковой. И самое сущностное в этой инаковости состоит в том ,что Чужой – это по природе своей Чужой в нас самих. Чужой – имманентен и трансцендентен одновременно. Он является реальным живым существом, пространством окружающей действительности, соседом-чудаком или иноземцем-монстром, исламским фундаменталистом или «проклятым католиком», «донецким бандитом» или «львовским бандеровцем», но одновременно он – наши негативные знания о самих себе, вытесненные в подсознания и путем проекции перенесенные на внешний хаос. Так Свое порождает Чужого. Более того: свое в какой-то момент само становится Чужим. В страхе перед чужестью индивид, ища себе подобных, образует группу или систему «свойскости» (семью, клан, род, племя, нацию, религиозную общину, церковь, государство, «человечество»). Группа эта, временно избавляя от страха, – страха смерти, страха Чужого и страха самости – одаривает человек роскошью солидарности, но эта солидарность, массовость, клановость, в какой-то момент деградирует в тотальность. А всякая тотальность стандартизирует и отчуждает человека от самого себя, приучая и/или принуждая мыслить стереотипами. И тогда порождается грандиозная унифицирующая сила – Система, – сама становящаяся Чужим, против которого протестует личность, отстаивая право быть собой. Здесь кроется момент расхождения между религией как формой личностного духовного опыта и церковью как социальной структурой – момент начала любых ересей и мистико-аскетических движений в культуре – от даосских отшельников до лютеранства и суфизма – движений, зачастую болезненных, греховных с точки зрения ортодоксов, но зачастую и нравственно оправданных в качестве способов спасения самости как совести. Впрочем, подобная борьба – борьба против самоотчуждения и борьба с Чужим в себе и вне себя не менее (если не более) болезненно переживается на уровне повседневности.
Первое впечатление от Чужого, которое наблюдает у себя человек – это то, что Чужой является ему в опыте, вызывает острую боязнь, смешанную со скрытым любопытством и, заигрывая со мной своей странностью, пытается отнять у меня мою самость. Первичная эмпирическая агрессия Чужого, даже если он ничего обидного и не предпринимает, вызывает обостренное самолюбием желание оправдаться перед его лицом, пройти инициацию в его царстве и, таким образом, самоутвердиться, спасти свою самость. Так, подросток, попадая в незнакомую удалую компанию, испытывает смешанное чувство робости и задирства. Ерничество, бравада есть ироничная маска беззащитности перед Чужим и одновременно начало его преодоления, ибо через шутку человек одомашнивает пространство вокруг себя. С этой точки зрения наиболее показательной является ирония художника по отношению к критику – первый признак трагедии творчества романтика-одиночки.
Итак, смех, юмор, комическое, ирония – характерные признаки встречи с Чужим и сублимационные формы страха перед ним. Ортодоксальное теологическое сознание зачастую подозрительно относится к смеху как средству нравственного разъедания сакральных истин, как к началу релятивации всего и вся. Соглашаясь с этим утверждением относительно нигилистического постмодерного смеха, тем не менее, отметим: смех как таковой не профанизирует действительность. Смех есть жест свободы, жест протеста самости против серьезности системы, и как жест свободы смех (например, карнавальный смех) является способом защиты самости, то есть движением к самому священному внутри человека. Изымая личность из социальной личины, смех спасает ее Лицо. На этом строится семантика розыгрыша как взаимной инверсии серьезного и комического: когда из невинной шутки, по воле тоталитарного запугивания системы, произрастает серьезность (вспомним неудачно пошутившего на тему троцкизма студента-коммуниста из романа «Шутка» Милана Кундеры); или наоборот серьезное эпатируется до шутки. Ярким примером последнего является изысканный «стеб», с которым интеллектуал саботирует посредственность. Примеров тому – великое множество, и не только в постмодернизме. Вспомним рыжего бандита Макмерфи, валяющего дурака перед персоналом бездушного Комбината психиатрической больницы в романе Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», блестяще экранизированного в одноименной драме Милоша Формана. Вспомним «шуточный» бунт против царизма маленького человека – актера Афанасия Бубенцова из провинциального театра в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Вспомним многочисленные розыгрыши Сергея Борисовича Крымского, о которых с удовольствие вспоминают его коллеги по Институту философии. Любое первое апреля скрывает в себе трагическое начало времен.
Как признак трагедии творчества смех есть первый шаг навстречу Чужому, потому что через иронизирование человек начинает дифференциацию самого чужого как открытого ему навстречу существа и чужести как неприглядных нравственных качеств этого существа. Любить человека, но ненавидеть его грехи, осуждать не человечность, а социальность – золотая максима практически всех религий, особенно христианской. Так через смех начинается отделение зерна от плевел, различение истинного и ложного, отшелушивание недостатков человек при сохранении эмпатии к нему как к человеку – уже не Чужому, а Другому и даже Ближнему. Александр Мень мечтал написать этюд о юморе Христа… Александр Блок, призывал читателей не слышать «их смеха, а слышать ту боль, что стоит за ним». Об одном из своих героев Борис Пастернак писал, что его никогда не облагораживало чувство беззаботности – не в понимании гедонистического легкомыслия по отношению к высшим ценностям, а в понимании отказа от отягощенности бременем заземленных социальных тягот, соблазнов и суетности.
В качестве выводов отметим следующие тезисы. Основой бытия человека в мире является страх. Фундаментальной формой страха является страх смерти. Источником страха смерти и ее носителем предстает Чужой. Угроза Чужого, его присутствие рядом со мной, во мне и через меня, принимающее формы системы, порождает еще один ключевой экзистенциальный страх – страх самости, страх быть собой, страх свободы, страх самовыражения. Страх как начало тоталитаризма во всех его формах. Одним из способов одоления этого страха является смех. Целомудренный трагический смех, который приводит человека к самости.
Религия, также апеллируя к самости и к совести, преобразует страх, переводя его из внешней формы во внутреннюю: превращая боязнь в трепет, а стыд – в муки совести и вины. Таким образом, религия выполнят ту же функцию, что и целомудренный смех. Поэтому смех внутренне религиозен, а религия несет в себе добрую, а подчас и грустно-ироническую улыбку, подобную беззаботности Божией птички, не знающей ни забот, ни труда.
Поскольку главный труд, осуществляемый человеческим существом – это мужество быть собой.
В случае возникновения Вашего желания копировать эти материалы из сервера „ПОЭЗИЯ И АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ УКРАИНЫ” с целью разнообразных видов дальнейшего тиражирования, публикаций либо публичного озвучивания аудиофайлов просьба НЕ ЗАБЫВАТЬ согласовывать все правовые и другие вопросы с авторами материалов. Правила вежливости и корректности предполагают также ссылки на источники, из которых берутся материалы.